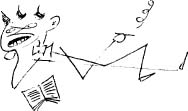
письмо тридцать третье
9/XI/67
Здравствуйте, мои милые!
Очень трудно мне начинать письмо, но авось распишусь, легче пойдет. А трудно писать от полной неопределенности, от неуверенности — дойдут ли эти мои «вопли и сопли» до вас? Очевидно, прежде, чем взяться собственно за письмо, нужно подвести некий почтовый баланс; увы, прибыли не будет никакой.
Так вот, есть у меня основания думать, что два моих последних письма (от 2/Х и от 19/Х) к вам не попали*. Во всяком случае ни квитанций с почты, ни подтверждений от вас. С письмами ко мне тоже дело худо. Сентябрьских твоих, Лар, я получил не 6, а 4 (последнее, 5-е — от 20/IX; нет, стало быть, 6-го и 2-го). Больше не было ничего. От Саньки — ни строки. После перечисленных мною писем от друзей (в полученном, подтвержденном вами послании — августовском) было всего четыре письма: от Тошки [Якобсона] (до поездки в отпуск), от Мишки Бураса (с обидами), от Иры Кудрявцевой (с фото), от Аллы [Сергун] (про то, как сбежала с юга). Все.
Я, право, не знаю, как теперь и писать к вам? Может, я не должен посылать стихи собственного изготовления? А посылал — Маришке Фаюм, Алене [Закс] и просто так. Хорошо, не буду. Может, нельзя переводы? Был грех: перевел и послал поэму Кнута [Скуениекса]. Ладно, не будет переводов. Что еще? Начальство я вроде не ругал. Власти — тоже. Харчами доволен. Книжно-газетно-журнальным снабжением удовлетворен. Ничегошеньки не понимаю.
О книжках. Бандероли мне все-таки изредка приходят. Была бандероль от Люды [Алексеевой] — приятная и полезная книга* «Там, за рекою Аргентина». От Невлера — о Данте и Тувиме. От Фаюма — два «Прометея». От Графа [И.С.Гольденберга] — «Иностр. лит-ра». От Майи З[лобиной] — сборник Корнилова (обоим им — Майе и Володе — привет и благодарность; а Майе еще и за свитер). Кажется, еще что-то было, но я позабыл.
О чем я писал в тех письмах? Всего не вспомнишь, все-таки письма были большие, дневниковые. О читанных книжках, о настроении, о погоде, о всяких-разных «литературных мечтаниях». О мелькнувших знакомых мордах — 2-е письмо было с 11-го л/о*. Были рецензии на те четыре письма, которые я все-таки получил, на Фаюмскую статью о Каржавине, на сборник Володи Корнилова, углубленный анализ книги о Тувиме*...
Может, мое письмо не дошло, потому что я нелестно выразился о физиономии А.Васильева*?
На днях беседовал с врачами. Осмотрели мое ухо, все в порядке, течь прекратилась. А еще смотрели меня терапевты, я сдуру пожаловался на изжогу, они обрадовались и предложили мне исследоваться. Я, не подумав, согласился. На днях будут выяснять возможность этого, и если да, то повезут меня на 3-й* (санотделение) и там будут впихивать в меня кишку. Представляете, какой ужас?! Но — отступать поздно.
Я буду понемножку вспоминать, чего было писано, и вперемежку с теперешним излагать в общедоступном виде.
11/XI/67
Вспомнил: еще получил «Новый мир» от Леньки [Ренделя]. Обидно все-таки ничего не знать о нем.
Сегодня получил очередную партию книг из библиотеки. Среди прочего — «Наука и жизнь», а в ней вкладка — этакое генеалогическое древо собак. И я сразу стал хлюпать носом и вспоминать Кирюшку, и высчитывать, сколько же это ей будет лет, когда я вернусь. Получилось что-то много — не то 12, не то 13.
Я сейчас не пишу и даже читаю не очень много (глаза что-то побаливают, перечитал, должно быть, да и освещение не ахти), все больше думаю. В основном об оставшемся мне сроке и о том, что будет после. Ну о «после» — одни «интересные картинки»; любой вариант, даже самый нежелательный, имеет свои хорошие стороны; просто с осени 70-го начнется новый период — отдыха, осмысления, дровишек в печке. Я бы, пожалуй, назвал этот период «ироническим». А вот те 2 года 10 месяцев, которые мне остаются, — это terra inсognita (так я написал эту чертову латынь?). Я решительно не знаю, сколько это времени. Термины (год, месяц, неделя, день) — это звук пустой, слова без содержания. Вот минуло два года с хвостиком. Это много? Мало? По событиям — очень много, ощущенье такое: «Ну не может быть, чтобы все это уложилось всего в два года!» А когда соотносишь со всем остальным — господи, всего 1/21 того, что я прожил на белом свете! И по сравнению с предстоящими 3 годами — тоже маловато. В общем, сам черт ногу сломит...
Настроение у меня равномерно полосатое. С утра — легкая форма меланхолии, сонливость и молчаливость. Где-то к 11–12 часам — оживление интереса к жизни (предчувствие обеда), пение (преимущественно марши и прочий мажор), баталии с Валерием [Ронкиным] (на темы «Долг — призвание — нравственность» и пр.), после обеда — чистая лирика, период лучезарных воспоминаний; затем — полтора-два самых скверных часа, после работы и до ужина: не хочется ни чтения, ни разговоров, это время страхов и примитивной арифметики. А после ужина и прогулки — чтение, треп, смех, прогнозы и пророчества, и спать я ложусь в отменнейшем настроении. На другой день — все сначала, в том же порядке.
Сейчас вечер, перед отбоем, да еще и суббота — и вся жизнь течет молоком и медом (ухой и чаем).
Спокойной ночи. Завтра еще напишу.
12/XI/67
Сугубо деловая запись: что мне нужно. Итак, мне пригодилась бы пара теплого белья; энное количество конвертов для заказных писем; несколько школьных (тонких) тетрадей в клетку; рублей 20–25 на личном счету. О журналах и газетах я напишу позднее (после 9/XII), когда увижусь с Виктором [Калниньшем] и Сережей [Мошковым] и мы выясним, кто что сможет получать из дому. Ну а книжки по вашему разумению. Побольше бы таких, как, скажем, книга о Тувиме или «Ускор. развитие лит-ры»*. Да, еще бы зубной пасты. Кажется, все.
13/XI/67
А еще привет Наташе [Горбаневской]. Я здесь часто вспоминал ее палевый костюмчик.
Из журналов неплохо было бы мне получать «Новый мир» и «Юность», остальное, судя по письму Ирины [Ронкиной], у нас будет.
Писать мне нынче лень. Я вот лучше нарисую:
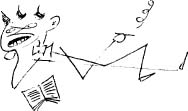
Это я. Спокойной ночи!
Отщепенец Рендель увез мои тапочки, ворюга! Не миновать ему бытового лагеря.
15/XI/67
И опять мне повезло: вчера простудился, и поэтому сегодня, в день рождения, на работу не пошел, а весь день лежал — праздновать так праздновать!
Только успел поставить восклицательный знак в предыдущей фразе, как меня вызвали и вручили 9 штук телеграмм и бандероль от Майи. Сразу на сердце полегче стало — ведь у меня последние вести двухмесячной давности!
Телеграммы вот от кого: от вас четверых, от Золотаревских, от Лени Невлера, от Майи и Алены [Злобиных], от Левина-Глинки, от Якобсонов, от Глухого [А.Марченко], от Нины Караванской, от Люды [Алексеевой]. Вот какой улов. Спасибо вам всем, дорогие мои. Наверное, правы были мастера обличительного жанра, когда писали в газетах, что я подонок: я ведь стал понемножку задумываться, не забыли ли меня напрочь... Не сердитесь, ведь то, что со мною происходит, это все-таки не совсем нормально, так ведь? К тому же сейчас у меня слишком много времени для размышлений.
Да, а как же все-таки чувствует себя новорожденный? Сколько ни повторяет он эту цифрочку, «42», осмыслить он ее никак не может. Так, сотрясение воздуха: «Сорок два, ква-ква-ква». А ведь, как ни крути, возраст. Я, конечно, понимаю, что ах как пора посмотреть на себя со стороны: и время подошло, и ноблесс оближ, и все такое прочее —
но до чего неохота! Очень хочется оставаться таким же глупым и легкомысленным, как в тридцать, тридцать пять, тридцать девять, наконец. Ведь, правда же, я вас устраивал с тогдашними моими умишком и повадками?
Сейчас примерно полдесятого вечера. Что-то у вас (у нас) деется?
16/XI/67
Еще четыре телеграммы: от Михи [Бураса], от Воронелей, от Лени [Ренделя(?)], от Наташи [Садомской] и Бориса [Шрагина]. Ух вы, мои разлюбезные!
Сегодня я опять бездельничал, нездоровилось с утра, но днем побрился, постригся (стильная причесочка!), побанился — и ожил. Завтра пойду трудиться на благо всему прогрессивному человечеству.
Мой сосед второй вечер мешает мне читать и писать: он ухватил 9-й номер «Нов. мира» и взахлебывается, причем делает он это вслух. Человек он отчаянной храбрости, и поэтому мои страшные посулы (разорвать пополам, избить крышкой от параши, декламировать наизусть Михалкова и пр.) его не останавливают. Он уже огласил почти целиком статьи о Сухово-Кобылине и о Рамусе*. Что и говорить, статьи отменные. Если бы нам какое-нибудь дешевенькое издание Сухово-Кобылинской трилогии, а? А то я, к примеру, только «Свадьбу Кречинского» знаю.
В прошлых письмах были у меня некрологоподобные размышления об Эренбурге и Тычине. Обоих жаль — по-разному.
17/XI/67
Еще четыре телеграммы: от Азбелей, от Кишиловых–Голомштоков–Меньшутиных*, от Ирины (Кудрявцевой?), от Гали Севрук. Москвичам всем — поклон и благодарность, а если кто будет в Киеве, пусть скажет Гале, что я ее тоже «вiтаю»*.
Новостей вроде бы никаких, происшествий тоже.
18/XI/67
Вот сегодня у меня действительно событие: впервые за черт знает сколько времени я получил два письма. И оба мне чрезвычайно приятны, оба от новых корреспондентов. Одно — от Наталии Горбаневской, со стихами. Второе — от Надежды Светличной с фотокопиями обложки, титула и портрета отца — «Изобретатель и комедиант»*, изданный 30 лет назад на Украине. Обеим им — самая горячая признательность. И усатому Ивану [Светличному]— привет. О стихах Наташи я пока писать не буду: я их только прочел, т.е. разобрал почерк. Вчитаюсь — тогда.
И еще телеграмма от Якобсонов! Они, дурачки, решили, что телеграмма, посланная на 11-й в Явас, не дойдет сюда. Но я очень рад этой второй телеграмме: меня больше устраивает новая редакция — «любим, любим» вместо прежнего «гордимся».
Завтра воскресенье. Ежели не просплю весь день навылет, буду мыслить. Нелегкий этот процесс будет посвящен предстоящим мне трем без малого годам. Я хочу, чтобы хозяйство у меня было планированное. Итак, на повестке завтрашнего дня — вопрос о возможностях изучения какого ни то языка и о дальнейшей моей переводческой деятельности. Во как. Ай да я!
20/XI/67
Как известно из Брэма, заяц трепаться не любит. Все воскресенье я мыслил со страшной силой. И вот до чего я домыслился. Ежели не произойдет никаких режимных землетрясений, ежели я не впаду в мусульманство, ежели Люксембург не разоблачит меня как агента планеты Нептун, ежели... в общем, ежели все будет в относительном порядке, я займусь изучением итальянского языка. У Сережи Мошкова есть учебник; если он мне не понравится, то я попрошу прислать тот, который у нас дома, — несколько лет назад я замотал его — не помню у кого. Конечно, от хорошей жизни такие лодыри и тупицы, как я, не ныряют в итальянский, но — ке фер? Фер-то ке?1 И потом лавры Жени Солоновича* не дают мне спать спокойно. Он удостоился премии Данте, получил, кажется, миллион лир, а я что — рыжий? Так и помру безвестным, бедняком? Вот. Кроме того, я решил заняться современной латышской поэзией. Какие-то сборники есть у Виктора, вкус у него очень хорош (его вкусы очень во многом совпадают со вкусами Андрея); вот я его и приспособлю на предмет изготовления подстрочников. Он говорит, что сейчас в Латвии печатается много интересного.
Чем я еще вчера занимался? Читал в «Новом мире» Расула Гамзатова*. Цветисто, остроумно, но несколько однообразно; две-три вполне почтенных и верных мысли, которые он поворачивает на разные лады, примеряет к ним то такой словесный наряд, то этакий, — вряд ли они от этого выигрывают. Вот хорошо, что он с Шамилем покаялся*. Насколько я помню, это единственное в нашей литературе покаяние такого рода. Хорошему примеру неплохо и последовать... К сожалению, остальные предпочитают оставаться «тенью от палки» (как сказано у Расула), не сознаваясь в том.
Только-только начал читать «Душу» Э.Триоле. Жаль, если это окажется слабее «Великого никогда». Многое в той книге затронуло меня.
Еще чего? Да, сочинил и нынче отправил письмо в Москву, ген. прокурору, по поводу переписки и еще кое-каких неприятностей с моими бумагами. К тому времени, как это письмо дойдет до тебя, Лар, там уже, вероятно, что-то решат?
Да, еще телеграмма от Юры Гастева. Помнит ли он, что я был потрясен тем, как он жарит баранину?
21/XI/67
Сегодня я получил, точнее сказать — получал бандероли. Их было четыре. Первую, от Лени Невлера, «Древнерусское искусство», я получил целиком. Вторая, от тебя, Лар, дошла лишь в журнальной своей части — носки были отложены в сторону. Туда же отправились шоколадки из Ирининой бандерольки — а кожаные рукавички я тут же вдел в петлицу. И для записной книжечки придумаю какое-нибудь хорошее содержание.
А «История СССР» с шоколадно-кофейной начинкой (по-моему, самое лучшее из всех известных мне изданий) — увы, мне ее читать не доведется*. В общем, сами носите, сами ешьте, сами пейте. Сборная бандероль будет у вас много раньше этого письма. Я попросил все чохом отправить на наш адрес. Надеюсь, Ирина и таинственный Роман* не в претензии?
У нас уже все заснежило, зима. «Три зимы, три зимы, три зимы» — не помню, посылал ли я перевод этого стихотворения Кнута*? «Три глыбы, которые мне раздробить, три выхода к свету прорезать в стене...». Очень хорош лес, любуемся, пока еще не привыкли. Жаль, что днем мы его видим только из окошка. Зато у нас под окном рабочего помещения целый птичник. То и дело десанты воробьев, самоуверенных, сытых и нахальных. Две сороки — вероятно, супружеская пара, очень красивые, на удивление спокойные и деловитые. А сегодня — впервые — прилетел пестрый, черно-белый дятел, чуть-чуть розовый под крыльями, сел на столб изгороди, уперся хвостом — и как вдарил! Только щепки полетели. Таких бы дятлов сюда сотенки три-четыре! А то — «только что же он может один?»*
Осталось мне быть в этой избушке на курьих ножках чуть больше двух недель. И — удивительное дело — что-то мне не очень хочется выбираться отсюда. Конечно, и свежего воздуха за полчаса в сутки не наглотаешься досыта, и по Виктору [Калниньшу], Сереже [Мошкову] и Энну [Тарто] соскучился, и вообще неплохо бы поразмяться — но о скольких вещах, от которых я здесь был избавлен, даже думать тошнотворно. Ладно, все в воле Аллаха.
23/XI/67
Тоненькой струйкой начала просачиваться корреспонденция. Сегодня получил два письма. Одно — от Маришки Фаюм, милое, теплое, прямо по сердцу гладит. И информации есть: теперь я знаю, что стихотворение, ей посвященное, все-таки попало по адресу; и что день рождения мой справлялся; и что были старые и новые (?) друзья... Второе письмо — от Майи [Злобиной]; в нем квитанция подписки на «Ин. лит-ру», точная цифра гостей на дне рождения (изрядно все-таки у наследника Смердякова* доброжелателей!) и какие-то прогнозы относительно содержания «Ин. лит-ры» в ближайшее время — так я догадываюсь. Очень уж она рассеянна, эта дама: зачеркнула что-то существенное, а эмоции по поводу того, что «где уж «Нов. миру» тягаться!» — оставила. И что за странная манера зачеркивать (в другом месте) конец фразы, оставляя меня в неизвестности, что же все-таки случилось с «вопросом»: «... на этот раз, кажется, вопрос...» — и зачеркнула*! Ай-ай! А еще умные статьи пишет — умные, язвительные и изящные — изящество пощечины.
Сегодня днем под окошко прилетели две птахи, новенькие. Они засвидетельствовали нам свое почтение, отчирикали светские пять минут визита и улетели. Бен [Ронкин] утверждает, что это синички. Не знаю, не знаю; что-то я не очень верю его орнитологическим познаниям. К тому же ему в одну руку колют алоэ, в другую — еще какую-то специю, и он малость шалеет — больно. Мы с ним подумали-подумали и решили, что гораздо проще и для него, и для медицины было бы в одну руку — луковицу, в другую — головку чесноку. И дешевле. Но это почему-то нельзя.
Адье, адье. Буду читать (ох!) Мамина-Сибиряка. Эдак и до Мельникова-Печерского докатишься. А там и до Шеллера-Михайлова рукой подать. Не говоря уже о Шолохове-Синявском, противоестественно соединяющем в своей фамилии антиподов.
25/XI/67
Монолог труден. И особенно труден он для меня: я не вижу собеседника, аудитории. Аукаешь-аукаешь, а вроде никто и не откликается. А вот диалог — дело другое, куда как веселее. Вот поэтому-то мне таково хорошо писать это письмо в последние дни. Сегодня — событие почти фантастическое: получил от тебя, Ларик, письмо. Оно, правда, № 2 — ноябрьское, но все-таки после двухмесячного перерыва! И какие приветы в нем — я, пожалуй, подумаю-подумаю и — загоржусь. Нет, в самом деле, радовался я нынче так, что и слов не подберу. Пожалуйста, если сможешь, передай мой привет всем, названным тобою в этом письме. К сожалению, я все же не знаю, какую работу ты закончила — ведь письма № 1 я не получил. Ну ладно, может быть, скоро увидимся? Но ты все равно пиши.
А еще сегодня две бандероли: великолепный Пиросмани от Аллы — сейчас вот пишу и поглядываю, любуюсь олешком на супере; я отложил его до завтра, до дневного света; и еще от Борьки [Шрагина] книжка о Сезанне — черт побери, у меня здесь шутком-смехом, а собралась неплохая библиотечка об изобразительном искусстве. Ш-изо-студия, иначе не назовешь.
А что, Борька носит свои штаны в елочку? Я советую надевать их на диспуты о модернистах — никакие лифшицы не устоят*.
Значит, мое первое октябрьское письмо все-таки попало к вам. Что ж, и то хлеб. Непонятно только, оказались ли в письме стихи для Алены и другие — про пословицы*. И жаль, если пропадет перевод поэмы Кнута. Это перевод посвящен тебе, Ларик, если ты его прочтешь, поймешь — почему*.
26/XI/67
За бритого двух небритых дают.
29/XI/67
Какое изобилие! Какая роскошная передача! — как сказал папа Мархоцкий*. Я получил нынче два твоих письма — № 3 и № 4, ноябрьские. Будем надеяться, что все это означает конец почтовых безобразий. Ты пишешь, что Министерство связи не остановится ни перед какими расходами, только бы не налаживать работу; интересно, что будет, если мне начнут посылать письма с объявленной ценностью, как это сделала Майя? Боюсь, что Министерство вылетит в трубу. А вы все, соответственно, обогатитесь за его счет.
Что Тошка талантлив, как пес, я и без тебя знал; недаром же я слушал его лекцию о Маяковском. Надеюсь, что он не импровизирует свои лекции, что они записаны? Черт знает, может, когда-никогда и опубликует*. Я очень представляю себе сборник — беседы-лекции-статьи, анализ литературоведа, темперамент публициста, полемизм критика — все это есть у Тошки и все в превосходной (во всех смыслах) степени.
Вот тебе и «оказывается, вокруг нас полно талантов». Именно поэтому, дружок мой, среди наших друзей и знакомых не было ни одного, с кем мне было бы неинтересно. Сейчас я похвастаюсь: просто я немножко лучше других умел угадать божью искру — от дара красиво и просто объяснить научную проблему (сформулировать популярно) до таланта улыбаться и двигаться.
Жаль, что ты влипла в этот вечер в Политехническом. Вдвойне жаль, если Саша Аронов стал плохо писать. А вообще-то — что ты хочешь? Обстановка официального интима стала модой, списки непечатаемых стихов носят, как желтую нашивку за ранение. Стихи же о графине и скрипаче напоминают (в твоем изложении), что
Когда поклонники уходят,
Приходит юный музыкант,
Мадам Люлю в восторг приводит
Его чарующий талант...
Был такой супербоевик шансонеточный лет этак семьдесят назад.
А насчет моей снисходительности ты неправа. И повесть Грековой* вовсе не «пустая», а очень горькая, даже какая-то отчаянная (от «отчаяние»). Тебя просто ввели в заблуждение легкость писательской манеры, изящество и ироничность рисунка. Не понимаю: оценить по достоинству «Созвездие Козлотура»* (действительно хорошую вещь) и не понять повесть Грековой — в сущности трагическую! И вообще, вероятно, и здесь происходит то же, что с людьми: я вижу книжки и стихи еще в каком-то повороте. Конечно, может быть, я и ошибаюсь, может быть, действует специфика моего читального зала. С нами это очень может случиться.
Лар, в последней декаде декабря — а письмо это, вероятно, придет не раньше — дни рождения: Егора [Синявского] и Машки [Розановой], Алены [Закс] и Аллы [Сергун]. Поздравь их от моего имени, скажи, что я их помню и целую.
Живем мы помаленьку, работаем, скучаем, читаем. Перекладываем на стихи абстрактные анекдоты. Получается вот как:
Три с половиной крокодила
Летят неведомо куда,
Летят четвертую неделю,
И все среда, среда, среда.
И поем. Что и как поем — об этом завтра, а то уже поздно. Спокойной ночи. Почему, собственно, «спокойной ночи»? Письмо наверняка придет утром или днем.
Да, Бен и сам знает, какой Плеханов бяка. Наизусть знает. А вообще он с головой нырнул в античную историю. Привет кофейно-шоколадному Роману. И пусть запомнит накрепко: не следует подслащивать историю. Историю СССР — тем более.
30/XI/67
Еще о стихах. Смерть как хочется сочинять стихи о том, что здесь недоступно. И именно поэтому — боюсь. Напишешь о женских бедрах, о вкусе грузинского вина, о том, что небо над Москвой вечером, если смотреть с Юго-Запада, фиолетовое, о толкучке в тоннеле где-нибудь возле «Детского мира» — и ведь обязательно кто-нибудь подумает и даже скажет: «Бедняга, все ясно. Бедра — от воздержания, шашлык — от недоедания, толпа — от одиночества». И поди потом доказывай, что ты не верблюд, что и раньше писал или хотел писать об этом — не от отсутствия, а от восхищения, от радости. И сейчас — я ведь живу, а не вспоминаю, как жил, и облизываюсь, как кот на сметану, ничуть не больше, чем всю жизнь. Вот плюну на воображаемых плакальщиков и буду сочинять чего попало. Очень уж напугала меня лет 20 назад Верочка Алексевна [Пычко], сказав сочувственно и осуждающе о стихах Бориса [Чичибабина], написанных в такой же своеобразной обстановке*: «Ведь это эротика, а, Юлик? Ну, конечно... Его можно понять». А вот сейчас уже вечер. И уже работа кончена. И Бен уже дрыхнет. И заходил нынче начальник начальника и сказал, что мое письмо ген. прокурору вроде бы отправлено (с опозданием примерно на неделю), и что два каких-то письма ко мне «актированы», т.е. в них содержалось нечто, чего мне знать «не положено», и что обо всем этом меня уведомят официально. Чьи письма? Вроде бы твои. Ладно. А остальные где? Хотел это письмо отправить завтра, а теперь дня два-три погожу: узнаю, что за письма такие недозволенные, и напишу, чтобы ты знала, чего писать не следует.
Подмосковное имение*, стало быть, растаяло. Жаль. А я уж мечтал, как буду внукам рассказывать: «Было у меня, детки, именьице — так верите ли: в одну ночь в шмен-де-фер продул! Такая несчастная талья подошла!» Или тальи в этой игре не бывает? Черт с ним, внуки-то еще меньше моего в этом разбираться будут. Только и спросят: «А крепостные куда делись?» А я заплачу, махну рукой и скажу: «С голоду померли. Один только выжил. Фаюмом звали. На флейте играл...»
1/XII/67
Притащили книжки из библиотеки: томик Твардовского, «Избранное» Тынянова, II и III части «Карамазовых», Корнейчука, которого я не заказывал, учебник итальянского от Сережи, еще что-то. Я подержал каждую книгу, повздыхал и — за что бы, вы думали, ухватился? Правильно, за Тынянова. Читать его мне противопоказано, вредно. А почему? А потому, что я завидую ему. А почему? Не потому, что он не попадал в тюрьму. А почему? Да потому, что он, сам не сидючи ни разу, это самое сидение пишет так, что глаза на лоб лезут от восторга и удивления. Ну его совсем. Взять, что ли, Корнейчука, успокоить нервы?
2/XII/67
А холодно, братцы, и впрямь зима началась.
Что-то год от года я все хуже переношу холод.
Старость? Старость, старость, не утешайте меня. Вот и со сном тоже неладно. Поспишь этак 12–13 часов в сутки — и больше никак, нипочем не уснешь. Ворочаешься, ворочаешься — ни в одном глазу...
Здесь у нас есть одна чертовина, которая меня раздражает: телефон. За стеной, в комнате для дежурных, звонит телефон — и какое-то мгновенье должно пройти, прежде чем я соображаю, что меня к телефону не позовут и я ничьего хорошего голоса не услышу. Понимаете ли, какой-то противоестественно домашний звук. Любопытно, не получится ли дома все наоборот — он будет раздражать меня напоминаньем. Впрочем, через неделю я отсюда уйду и не услышу этого. Тьфу, тьфу — неисповедимы пути Господни.
3/XII/67
Письмо от тебя — раз! Бандеролька с «Былым и думами» Герцена — два! Итак, блокада кончилась. Сегодня я имел серьезнейший разговор с неким ответственным лицом, которое обещало в ближайшие дни разрешить все проблемы, в первую очередь — почтовые. Относительно задержания твоих двух писем я, впрочем, так еще ничего и не узнал. Ладно.
Лидии Корнеевне [Чуковской] — моя самая горячая благодарность и признательность. Я теперь буду весьма и весьма сведущ в герценоведении: эта книжка, ее же (Л.К.) главы из книги «Герцен» в «Прометее», статьи в периодике о «Колоколе» и разговоры о нем же — солидный багаж, правда? Мне бы еще ухитриться как-нибудь прочесть «Былое и думы» — совсем бы хорошо было. Жутко стыдно, что в свое время я отмахнулся от Тошкиных воплей о гениальности этой книги. Перед Лидией Корнеевной стыдно в особенности. И перед Беном — он ведь тоже специалист по «Колоколу»*.
А письмо твое — № 5 — совершеннейшая прелесть. Я визжал и рыдал от восторга, узнавая «лица необщее выраженье». Я, правда, никогда не задумывался, как поведет себя эта личность* в столь экзотическом месте, как кафе; но сейчас, поразмыслив, решил, что ты абсолютно права: стиль поведения — юридическо-геометрический, т.е.: дано — то-то и то-то, следует показать (а тем самым — доказать) то-то. Ох, уморушка. А в общей оценке ты тоже точна, а Иосиф Аронович [Богораз] — в особенности. Именно — «добряк, чудак». «И умница», — добавлю я. А командовать надо не ему, а им.
4/XII/67
На дворе — тепло, в помещении — тепло, натопили до изумления, сегодня и завтра — нерабочие дни, с удовольствием читаю «Гойю», только что пообедали, вчера было письмо, по строчке, по две капают стихи, учебник итальянского мне не понравился — можно не заниматься, и жизнь хороша, и жить хорошо.
В самом деле хорошо. Я ведь всегда любил посибаритствовать, а здесь, когда такое состояние приходит, как неожиданный карточный выигрыш, оно доставляет радость не только физическую, телесную. Начинаешь думать о тех временах, в которые эта благодать для людей с моим (или Бена) характером исключалась начисто. А еще это самое устройство (мыслительный аппарат? память? сердце? эмоция? не знаю, в общем — я), заведующее хорошим настроением, протягивает ниточки во все стороны от любого ощущения, действия, состояния. Например, вот читаю «Гойю», наслаждаюсь (простите, дамы и господа, люблю Фейхтвангера) — но это не все. Сразу же — и потом, во все время чтения, — отчетливое воспоминание, как мы с Ириной Глинкой на выставке, и я присох перед портретом посла Республики* (такой легконогий, стремительно-сидящий комиссар), и Ирина терпеливо ждет, пока я налюбуюсь, — у нее-то есть на этой выставке другие заповедные полотна. Это не воспоминание, вернее, не только воспоминание; у меня еретическое ощущение, что это совершается сейчас и даже «совершается завтра». А ведь для того, чтобы почувствовать себя свободным и счастливым, совершенно не обязательны такие прямые связи (Фейхтвангер — французская выставка); достаточно, скажем, побриться или вдруг вспомнить позабытую песенку. Как я рад, что я жил «чувственно» (или как надо сказать?), что жизнь меня «программировала» больше запахами, прикосновениями, цветом, чем мыслями, идеями, умозаключениями и пр. А то был бы я умный, не написал бы эту вот чепуху — и вам всем не было бы случая посмеяться. А смех — он, говорят, витамины содержит. Или калории?
В общем, настроение у меня — как у Кэрьки, когда ей разрешают влезть на диван да еще и брюхо чешут.
5/XII/67
Завтра я отправлю это письмо, больше тянуть не стоит. За этот месяц я, верно, много наболтал здесь — без складу и ладу, ну да бог простит, а вы снисходительней бога.
Вот что я хочу еще сказать. Я не всех помянул в этом письме, но, пожалуйста, пусть никто не думает, что я хоть кого-то позабываю. Всем — моя любовь, каждому — отдельная. И особая. И если я смогу через 3–4 месяца писать не два, а четыре письма в месяц (что весьма сомнительно)*, я каждому объясню это. Но скорее всего я скажу это не на бумаге через 3 года. Да оно и к лучшему: никогда так не напишешь, как скажешь.
До свиданья, мои хорошие; жду ваших писем, которые для меня больше, чем радость. Ю.
Те, кто мне писал «держись!», пусть не сомневаются — я держусь и буду держаться. Лишь бы вы были со мною. Тогда мне море по колено и сам черт не брат! Ю.
1 Для любознательных: «Что делать? Делать-то что?» (фр.).