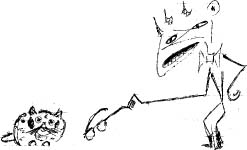
письмо пятьдесят девятое
8/III/69
Санька, здравствуй, хороший мой.
Вот уже неделя прошла с нашей встречи, а у меня все еще ощущение, что это было вчера. Это, наверное, оттого, что твой приезд — событие; а вообще-то событий у нас не бывает, т.е. бывают, но все обыденные, мелкотравчатые, слишком знакомые, чтобы можно было всерьез о них думать и переживать их. Вот я и думаю о нашем разговоре, о тебе; о том, что ты рассказывал, и особенно о тех клочках разговора, из которых я мог выудить хоть немногое о твоем отношении ко всяким важным проблемам. Я не очень ясно представляю это твое отношение, но радуюсь, что, кажется, оба мы достаточно скептически относимся к одним и тем же вещам.
Сейчас меня это все тем более волнует, что в последнее время я как-то чувствую, что потерял контакты, не умею понять людей и не умею объяснить себя этим людям. По-моему, происходит какая-то ошибка, недоразумение, уже сейчас обидное до чертиков, а в будущем грозящее полным непониманием, охлаждением и в итоге — тем, от чего я, по мнению большинства, надежно застрахован, — одиночеством. И я не знаю, как ты об этом думаешь. И — думаешь ли? Вот давай я поговорю с тобой.
Мне усиленно объясняют, и здесь, и извне, что все хорошо и разумно, а если неразумно, то все равно хорошо, а если нехорошо, то полезно и т.д. Говорят о Льве Толстом, который стремился в тюрьму; о том, что в страдании (а некоторые даже утверждают, что только в нем) есть радость; о том, что нынешнее мое состояние может оказаться кульминацией всей жизни, ее взлетом, расцветом.
И вот я думаю: то ли я человек ущербный, лишенный каких-то свойств души, позволяющих понять и принять эту точку зрения, — заземленный, примитивный мещанин; то ли все эти люди, от графа Льва Николаича до другого, современного писателя, любимого и уважаемого мною*, ошибаются. Вероятно, все-таки первое.
Наверное, не зря — Блоковское: «Сердцу закон непреложный: радость — страданье — одно»*; не зря — Аллы: «Прошлое помним... и любим его мы печальной любовью»*; не зря — «Я рад, что так случилось» — эту фразу я слышал от десятков людей.
Наверное, не зря. Но я никак, ни под каким соусом, ни в коем случае не приемлю этого. Я могу согласиться, что мы должны расплачиваться за то, что делаем, за то, чего не можем не сделать, — но радоваться этой расплате? хвалить ее? видеть в ней нечто облагораживающее, нужное человеку? Это выше моего понимания.
Само собой, что годы, проведенные здесь, — это часть меня, часть моей жизни; само собой, что они нечто привносят в духовный строй, в характер, в сумму знаний, наконец. Но почему, откуда это твердое убеждение, что обогащение души и разума может и должно происходить именно таким путем? Пока я не слышал еще ни одного серьезного аргумента в пользу этого положения, все только декларации: «Счастье человеческое причисляется к страданию теми, кто умеет различать»; все только неконкретизированные ссылки на собственную биографию: «Я... поднялся на ту ступень развития, когда плохое начинает рассматриваться и как хорошее...»
Ну, хорошо. Когда мне сегодня один человек сказал: «До всего этого я был дерьмо», — я спорить не буду: ему виднее. Но я не верю, что цитированный мною автор (о «ступени развития») был дерьмом до своих испытаний. Я не верю, что «колотьба за горстку материальных благ» может заслонить «душевное богатство». Богатые душой плюют на эти блага.
Мне кажется, происходит вот что. Оттого, что мы, в общем-то, не знаем толком, что такое это самое «счастье», мы принимаем за него — осмысление, объяснение происходящего с нами. Спору нет, в иных обстоятельствах мы, может быть, и не поняли бы, кто мы, что мы и зачем мы; но при чем тут счастье? Сказано — и не без оснований: «Умножая познания свои, умножаешь скорбь свою». Ну, тут мне возразят, что скорбь такого качества — она-то и есть радость, и вся эта карусель закрутится снова...
Для меня радость была в том, как и чем я жил, включая и то, что в итоге оборвало эту жизнь. Эти годы не только не принесли мне радости — наоборот, они сделали меня несчастливым: я стал злым и нетерпимым — а я ненавижу злобу и нетерпимость. В результате я вынужден ненавидеть самого себя и горевать о себе — о том, каким был раньше. И сумма знаний, опыт, материал, накопленные мною, катастрофически не заполняют те пустоты, которые образовались во мне.
Опять-таки: что такое «страдание»? Какой смысл вкладывают апологеты страдания в это слово? Что это — плохая жратва или отсутствие ее, недостаток ее? Холод? Грубость? Скверная одежда? Но на нашем, современном, сегодняшнем уровне — это терпимо. Я, во всяком случае, не могу сказать, что я «страдаю» от этого, слово слишком серьезное. Зрелище беды, несчастий, нравственной гибели? Да, это страшно, это заставляет страдать. Но такое страдание не может дать счастье. А если это зрелище дает счастье, то называется это «счастье» — бессердечием, жестокостью, садизмом. Какие уж тут «победы и триумфы»!
Вот пишу я все это и думаю: умные, тонкие, благородные люди думают иначе, не так, как я; сомневаются, были ли счастливы общие наши знакомые до постигших их потрясений (сама постановка вопроса подсказывает их ответ: «Нет, не были» — хороший удар под ложечку мне и моей наивности), утверждают, что «своей судьбы ни на что не променяют» (как будто об этом речь! На сделки никто не пойдет и от судьбы не станет отказываться; но ждет же каждый из нас, когда, наконец, кончится этот период судьбы!). Так какого же органа, какого чувства не хватает мне, чтобы понять и согласиться? Почему я один-одинешенек воспринимаю случившееся со мною и другими как огромное несчастье, существование которого оправдывается лишь его неизбежностью, о которой мы знали заранее?
Непонятно мне все это, сынок, и грустно. И нет никакой уверенности, что хоть кто-то, хоть один человек согласится со мною. Старые друзья канонизировали меня, новые знакомились не со мной, а с «моделью»; кто не знает, а кто забыл, что недоступна мне эта «тонкость чувств». Никто, кажется, и не хочет подумать, что я существую отдельно от того, что писал, и от последних трех с половиной лет... И что именно та жизнь была настоящей — и с радостями, и с печалями, победами, поражениями. То есть эта — тоже настоящая, но совсем не та, которая нужна мне. Не понимаю я ничего.
Вот ведь даже Алик [Гинзбург] — человек самый светлый по характеру своему из всех, кто здесь есть, — и тот улыбнулся странноватой улыбкой и сказал: «А я это понимаю — счастье в страдании...»
Ты только не подумай, что я жду от тебя каких-нибудь утешений и успокоений, — просто мне захотелось написать тебе, что мне думается и что меня тревожит. Может, у тебя есть мысли какие ни то по этому поводу?
А новостей, действительно, никаких. Было письмо от мамы, с описанием дома и хозяйственных дел, выполненных, выполняемых и имеющих быть выполненными. И с очередной взбучкой мне — за Арину [Жолковскую]. И от Арины письмо лирическое и философское разом. А что, Наташа всерьез решила, что я настаиваю на обращении «тетя Арина»? Ну-ну. Хотя я и не вижу, почему бы тебе не именоваться «пельменником» — по-моему, звучит красиво и соответствует твоей сущности.
Сегодня был день рождения Виктора — Серенького [Труфелева]. Уж было пито-едено, курено-говорено! Надарили ему книжек, альбомов, открыток. Музычку послушали, особливо хороша пластиночка с романсами, последняя, от Арины. Да, 7 штук пластинок мне уже отдали, остальные пока еще нет.
14/III/69
Рыженький, такие колготные и суматошные дни были, что 11 числа я даже не смог выбрать свободную минутку написать несколько строчек тебе.
Вот с опозданием поздравляю тебя и целую. Расти большой (только не в длину — хватит, пожалуй) и умный — без оговорок. Мы с утра в твой день рождения выпили кофейку за твое здоровье, произнесли приличествующие случаю тосты и отправились заниматься легкой промышленностью. Где-то через часок подошел Ян [Капициньш] и таинственным шепотом сообщил, что у него чешется нос. Надобно тебе знать, что зуд Янова носа — есть великий признак, как дрожание левой ягодицы у Наполеона (или чего там у него дрожало? Ах, да — икра...). Когда нос Яна чешется, это значит, что кто-то получит что-то: письмо, телеграмму, бандероль. И верно — нос как в воду глядел. Вечером мне было три письма. Одно из них — мамино, очень хорошее, длинное, и о тебе. Это был мне великолепный подарок к твоему дню рождения. А еще письма от Юны [Вертман] и от Ирины Уваровой. Чего это Юну носит по морям, по волнам? Да еще где-то там поблизости от этого оголтелого Китая? Вот как выкрадут ее хунвейбины, да как заставят петь «Алеет восток» — вот и вылетит из нее всякое легкомысленное содержание, явно не соответствующее ее форме(-ам). И вообще недоволен я ею, Юною. Эт-та зачем же отговорила она Ирину фотографироваться для меня? Эт-та что же такое? Нет чтобы сказать: «Правильно, мол, молодец, наконец-то собралась, умница, и я с тобою, тоже снимусь на фото, и пошлю туда же тому же» — она, видите ли, отговорила! А Ирина тоже хороша — послушалась, как маленькая. Восторги по поводу Мейерхольда отнюдь не компенсируют отсутствие фотографии. Тем паче, что мы народ тертый, нас всякой сицилийской акробатикой не удивишь. Подумаешь, Ди Грассо, или как его там!* У нас вот Ронкин умеет ноги ставить в такую позицию, что для нее даже номера не придумано (последняя фехтовальная — кажется, № 6, а тут, по меньшей мере, № 10 или 11, ступни развернуты почти на 3600). А Гинзбург может слопать три обеда и при этом делать стойку на ушах.
А сколько Ириному Пашке [Павлу Уварову] лет?
Затем последовали поздравительные телеграммы — от Фаюмов (какой шедевр собирается подарить человечеству Фаюм в мартовском номере «Детской литературы»?), от Арины, от Михи [Бураса]. Санька, ты все-таки не очень торопись осуществлять пожелание Фаюмов — насчет моих внуков и правнуков, ладно? А у Арины неточное выражение. «И вовсе не согласен я с такой формулировкой», — как поет Высоцкий. Да-с, сударыня: Санька (Санька, не слушай!) — не «одно из лучших моих произведений», а лучшее...
Упомянутый выше нос со страшной силой зачесался вчера — пожалте, бандероли! Одна — от Юры и Ирины [Левиных-Глинок], раскрываю — батюшки, очки! Теперь у меня три пары; одна, правда, кокнутая, но я могу употреблять ее при официальных разговорах как лорнет; вторая несколько давила мне на психику (оглоблей, за ухом); последняя — в самый раз и очень удобная.
А вторая бандероль — очень трогательная. Она из Киева, от переводчика А.Перепадя. Он прислал мне томик Гофмана и — в своем переводе — томик Экзюпери. Если случится оказия, передайте, пожалуйста, ему мою благодарность и что я очень рад буду познакомиться с коллегой, да еще с таким благожелательным и, видать, не робкого десятка.
Сегодня нам обещали II серию жутко завлекательного венгерского кинодетектива. Там так в I серии: «Бах! Бах!» И труп. Это начало. А конец: «Бах! Бах! Та-та-та-та!» И — неизвестно чего дальше. Во дают! И еще там есть один нехороший полковник, чартист (или хортист?) — вылитый наш знакомый, сейчас уже покойный. То же личико. И еще полуголые девочки. И лакеи носят вина. И шпионы носят фрак*.
16/III/69
Ну-с, показали нам II серию. Все, оказывается, устроилось как нельзя лучше. Правда, по ходу дела ухайдакали героиню, но это ничего, потому что герой нашел себе другую, не хуже, и даже с высшим образованием. К сожалению, не такую голую. Есть впечатляющие кадры: беседуют резиденты конкурирующих разведок. И вдруг один из них произносит сокрушительное французское слово: «Вуаля!» — раздвигаются панели, и из стен высовываются пулеметы. «Вуаля!» — гаснет свет. «Вуаля!» — свет зажигается. Деморализованный противник тут же сдается и покупает за баснословное количество фунтов документацию на изготовление каких-то очень важных приборов — к полному удовольствию зрителей она впоследствии оказывается фальшивой. А главный герой, очень лихо бьющий своих недругов ногой в пах, становится физиком-атомщиком, доктором наук. К тому же 20 лет спустя он выглядит куда моложе и красивше. Вуаля!
Обилие очков действует на меня странно. Мой медовый месяц с очками отравлен ночными кошмарами. Я просыпаюсь в ужасе: приснилось, что я раздавил очередные очки. Спросонок нащупываю футляр, роняю его, слава Богу, на постель. Уф! Иду курить, чтобы успокоиться.
Еще разыгрываются у нас зубодробительные мистерии. Я, кажется, уже не раз писал о превосходных качествах моих коллег; но то, что я увидел вчера, меня потрясло.
Леня Бородин и Бен [Ронкин] пошли к дантисту. У нас новый зубной врач, ничего себе, лысый; до Славы [Геврича] ему — как до неба, но все-таки... Да, так вот, Леониду он выдрал зуб, предварительно для большей полноты ощущений расколов его на три части; каждую часть дергал отдельно. Так. Затем туда отправился Бен. Чего там с ним делали — в подробностях не знаю; но пробыл он там долго и вернулся, когда мы, живописной группой расположившись у стола, лопали хлеб в трех видах: жареный черный, жареный белый и хлеб с какой-то непонятной, но вкусной ларьковой консервой. Щека у Бена была вздутая, вид горестный. Он посмотрел на стол, заходил кругами и произнес: «А-мэ по-э?» («А мне поесть?») «Нельзя», — твердо сказали мы. Ах, нельзя! Бену только этого не хватало, чтобы начать решительные действия. Он схватил кусок и вцепился в него здоровой половиной челюстей, сразу став симметричным. Он двигался вокруг стола, жевал, наклоняя башку так, чтобы больные зубы были сверху, и, очевидно, от этого наклона, — прихрамывал. И говорил. Только что по радио говорили о столкновении на китайской границе*, и мы как раз комментировали. Ну мог ли он остаться в стороне? В пылу полемики он отхватил порядочный кусок от чужой порции, прожевал и спросил: «А нет ли еще чего?» Сережа [Мошков] предложил ему кашу с рыбой — ужин, который Бен пропустил. Бен вцепился в него (в ужин, а не в Сережу). Я грустно сказал: «Бенчик, а я-то надеялся, что, по меньшей мере, до утра вы будете поститься и молчать». Валерий захохотал. Это было то еще зрелище! Одной рукой держится за щеку, в другой — кусок рыбы, густо небрит, голова при этом висит, как у св. Себастьяна, и ноги в обычной стойке. «Валерий, но у вас же там, во рту, — мышьяк», — вежливо и с ужасом сказал Слава Платонов. «Ха, — сказал я, — мышьяк! На него только стрихнин подействует, и то вряд ли...»
А добило меня вот что. Когда я зашел после этого в курилку, то увидел и услышал, как Леонид и его мучитель-дантист в четыре руки и две гитары выделывают «Цыганочку». Физиономия у Леонида тоже перекошенная. Я был так потрясен, что выбил под ихние гитары чечетку и удалился, бормоча под нос: «Я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть...»
18/III/69
Новый шарф мой — источник радостей. Стою это я, свесив голову на грудь, трусь об эту пушистость подбородком. «Юлий, что с вами?» — «Понимаете, — говорю, — либо я чокнулся, либо от него духами пахнет...» Собрался консилиум. Нюхают. «Пахнет», — говорит Сережа. «Вроде пахнет», — говорит Бен. «Ого, еще как пахнет!» — это Алик. «А ну, брысь! — говорю я. — Будете еще тут нюхать на даровщину. Вынюхаете все, а мне что останется?» Он — прелесть, очень свой, этот шарф. Когда я устраиваюсь на постели читать или писать, кладу его рядышком с подушкой и время от времени подмигиваю ему заговорщицки.
Сегодня, Санька, пришла твоя поздравительная телеграмма. Что это ты, дружок, так поздно спохватился? Или это ты выполняешь свое обещание написать о дне рождения? Тогда уж пиши как следует, письмом. Или просто «третий день пили здоровье его высочества»?
Письмо от Воронелей — двухслойный мармелад: один листок писан летом 68-го, другой — сейчас. К первому у меня претензий нет, ко второму имеются; вернее, не претензии, а вопросы. Каков сейчас все-таки Сашкин статус? Где кто обитает? В Менделеевке? В Москве? Зачем Нелка ломает ноги себе? Есть много более достойных кандидатов. Почему, состоя при сценарных курсах, она пишет не сценарии? Что значит вскользь брошенная фраза о переменах, совершившихся или совершающихся, в жизни нашего общего знакомца — переменах, столь серьезных, что он даже Сашку забывает? Почему ни слова не написали о Нэтке и Мишке [Гитерманах]?
Кстати, еще вопрос — Арине: сообщение в поздравительной телеграмме о полученном письме — это о том, что я послал к 8-му марта?
Ох, братцы, спать хочется. Не высыпаюсь, прямо жуть. А времени всего четверть девятого, вроде и неприлично в постель лезть.
Не пишу и не перевожу весь этот месяц; так, ковыряюсь потихоньку. Потому что скотина ленивая. Вот ужо с понедельника (с нового месяца, с Нового года, после освобождения) начну новую жизнь.
А Тошке [Якобсону] (есть у меня друг-шатен, так он не друг-шатен, а сволочь!) не грех было бы прислать мне переводы из Верлена. Может, и вякну что-нибудь не совсем идиотическое.
Читаю книгу Гачева, так блистательно отрецензированную в «Известиях» (или в «Правде»?)*, и гнусно хихикаю. Ну и Гачев! Даром что в очках, а соображает. Не зря в матросах служил.
20/III/69
Из письма Арины Алику мне стало известно, что Миха врезал новый замок во входную дверь. По-моему, он должен был врезать тебе, Санька. Бедная дверь, второй раз ее корежат, и оба раза по твоей милости, растяпа моя драгоценная. Экий я злопамятный, а?
Насчет Тошки-друга-шатена-сволочи беру свои слова обратно и смиренно прошу прощения. Я нынче получил письмо от Ирины Глинки, в котором сказано о Тошкиных хворостях. Да уж, тут не до Верлена, когда череп долбать собираются.
Письмо от Ренделя. Леничка, радость моя ты долговязая, Леонид-свет-Абрамыч, чучело достопочтенное, челом тебе бью и сообщаю, что благодарности моей и признательности нет ни дна, ни покрышки. Вот разодолжил-то, вот спасибо, просветил меня, малограмотного лаптя, насчет Кони. Я-то, дурак необразованный, как читал его двухтомник, все думал да прикидывал: кто бы этот сочинитель мог быть? И что такого-этакого для России-матушки сделал? Ленька, ты гад. Можешь ты раз в жизни написать толковое письмо о себе, о семье, о работе (за деньги и за так), о быте, о здоровье? Ирод... Все мы тебя нежно любим и целуем. И цитируем.
И письмецо от Гали Севрук. Ирина, милая, Вы — самый обязательный человек изо всех. Сделайте милость, черкните ей открытку, что фотографии работ ее я получил, что очень благодарен за фото и за открытки — за память, и что радуюсь всему этому. Ее адрес: Киев 49, Воздухофлотское шоссе, 55, кв. 5. Пожалуйста, как скульптор — скульптору. И, может быть, она знакома с Перепадем, о котором я уже писал в этом письме, пусть скажет ему все эти мои слова о нем. На всякий случай, вот его адрес: Киев 147, Давыдова 19/1, ком. 52, Перепадь Анатолий Алексеевич.
Вы не сердитесь, что ко всем Вашим заботам я добавляю еще и эти поручения? Маме вашей поклонитесь от меня — очень я огорчен ее нездоровьем. Что-то в последнее время — везде камни: и под ногами, и по воздуху летят, и в почках...
Очень я жду еще хоть одного Вашего письма в этом месяце. Арине и Людмиле Ильиничне [Гинзбург] — моя благодарность за бандероли — те, в которых были Стругацкие и Петровых (Тошка общается с нею? Если да, и если удобно — привет), уйма записных книжек и пр. Все благополучно получил.
Если у кого-нибудь будет время, желание и книжка под рукой, прочтите в № 2 «Др. народов» рассказ Г.Тютюнника «Поминали Маркиана» — стоит. Рассказ, я бы сказал, «новомировский».
22/III/69
Санька, вчера было письмо от твоей родительницы. Не письмо, а праздник. В нем сообщалось мне об этом уголовном типе, который напросился к ней на постой*. Письмо от 2/III, а это мое уйдет лишь в начале апреля, и я пишу сейчас, не рискуя сглазить: за это время все так или иначе у него решится. Если бы он действительно поселился в Чуне, один или сам-два, я бы перестал волноваться, я был бы спокоен за маму, был бы рядом близкий и заботливый человек. Ты тоже хорош, гусь лапчатый: не мог мне на свидании хотя бы намекнуть об этом проекте! Ладно, Бог с тобой. Жду теперь с нетерпением дальнейших известий и очень, очень, очень хочу, чтобы он там остался.
Кроме этой ошеломительной новости в письме еще были всякие соображения относительно теперешней ее работы. Ну что ж, звучит все это довольно утешительно. Господи, я ведь в принципе не против жонглирования досками, лишь бы это по силам было.
Эй, я уже забыл, в чьем это письме говорилось, что хотели послать Ларкину фотографию да раздумали? Что-то повадились все раздумывать с фото.
Санька, у меня кончается зубная паста, вдрызг продырявились носки (простые) и носовых платков маловато. Ась?
23/III/69
Ну что это за безобразие! Беру это я № 2 «Д[екоративного] И[скусства]» — и глазам своим не верю*. Милую, кроткую И.Уварову смеет оспаривать этот мрачный фанатик, этот рационалист-рецидивист Фаюм (к тому же трусливо укрывшийся за псевдонимом «Ю.Я.Герчук»). Да как у него авторучка поднялась? Добро бы он не знал, кто такая И.Уварова, — думал бы, может, это какая-нибудь старая грымза... Ах! Я уж не говорю о том — это в конце концов второстепенно, — что и по существу он совершенно неправ. Функциональность прикладного искусства? Да кому она нужна? Идея предмета гораздо важнее его утилитарности. Если Фаюм не понимает этого, значит, он попросту не интересуется ничем, кроме узко специальной области. А посмотрел бы повнимательней вокруг, полюбопытствовал бы, как, к примеру, обстоит дело в общественной жизни страны, сразу понял бы, что дно стакану совсем не так уж нужно. А подчас даже и вредно. Эдак выходит, что колонна должна что-то поддерживать, сосуд — содержать, собрание — обсуждать, адвокат — защищать? Так, что ли? Нет уж, уважаемый Ю.Я., не выйдет! Так можно, пожалуй, договориться и до того, что... Да что там примеры приводить — всякому ясно, что принцип чистой декоративности — великий и ведущий принцип. Никто ведь не требовал, чтобы в замечательных деревнях, созданных попечительством Григория Александровича*, можно было жить! Любить надо искусство (всякое...), понимать надо, а он... Ай-ай-ай, «печной горшок ему дороже»*. Но, повторяю, не это главное. Пусть не обижает Ирину Уварову, негодник, а то вот я вернусь и объясню ему, зачем земля круглая.
27/III/69
Получил я: а) твою, малыш, телеграмму о моем письме; б) грустное Аришино письмо; в) невнятное Наташкино [Садомской] письмо (Господи, помилуй, какие словеса загибает — «амбивалентная ситуация»! Хорошо, рядом грамотные люди есть — объяснили... Словечко-то почище, чем промискуитет!); г) письмо от Ларки, почти целиком посвященное братцу*. Нет, есть все-таки Бог на небе: о такой ситуации я и не мечтал.
А сегодня — две бандероли: от Веры [Лашковой] и от личности, неразборчиво начертавшей свою фамилию; пришлось обратиться к Алику, он глянул и сказал: «О, это Швейк»!* — таким тоном, как будто речь идет о Гашековском Швейке, которого все знают. Ну, затем сей литературный персонаж был объяснен и прокомментирован.
Собирался я подробно повосхищаться 3-м номером «Октября», но недосуг. А жаль — эмоции распирают. Ну что за прелесть реакционная коллегия этого журнала!* Какая убежденность, какая последовательность, какой подбор кадров, какая точность в формулировках — букет такой, что пальчики оближешь. Ладно, небось Алик уже целую рецензию накатал.
Санюшка, это письмо я отправляю сегодня, не дожидаясь конца месяца, вне лимита, и вот по какому случаю: чтобы предупредить, что приезжать ко мне на личное свидание до 15 апреля никак не следует — дорога непроезжая. Нас об этом специально предупредили и разрешили отправить внеочередное письмо.
Я заканчиваю, малыш; что забыл написать — припомню в следующем письме, которое пошлю числа до 10 апреля.
Всех обнимаю, целую и приветствую.
Ю.
Дошли ли мои открытки, посланные к 8 Марта?
Послушайте, а что, «Новый мир» прекратил свое существование? Вышел ли хоть один номер в этому году? И «собачьи» журналы не приходят. Было всего два номера «Хунда».
И вот что, Санька, может, ты в курсе дела: я просил узнать у Лины Костенко, не разрешит ли она заняться мне переводами ее стихов — непереведенных, разумеется. Но либо мою просьбу не смогли выполнить, либо ее ответ до меня не дошел. Если что-нибудь узнаешь, попроси киевлян прислать мне сборники и отметить непереведенные (конечно, если она не против).
До свидания, милый.
А пластинку с Окуджавой тебе придется увезти обратно, потому как этикетка не нравится*.
Как это обидно, что вы там все волнуетесь совершенно зазря. Т.е. не зазря — практические результаты ваших волнений налицо: у нас все в полном порядке, все благополучно разрешилось, и волноваться не надо. Но когда-то вы об этом узнаете!
Это Катерина, дочь Муськи, глупая и трехцветная.
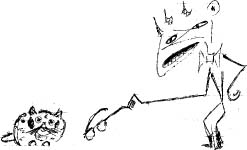
Да, Наташка, картинку твою я уже подарил*: сегодня был день рождения у Мих.Мих.Сороки. Впечатление было сильное — за всю жизнь он выпил спиртного 3–4 рюмки.