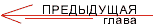
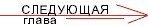
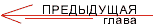 |
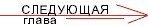 |
Правовые проблемы трудоустройства мигрантов
Я прежде всего хотел бы поблагодарить организаторов этого семинара за приглашение, поскольку была очень интересная и захватывающая для меня информация, я получил очень и очень много из тех содержательных докладов, которые сегодня прозвучали, прежде всего из доклада г-на Хофмана.
В настоящее время мне приходится заниматься не только проблемами восстановления на работе, научной деятельностью, но и проблемой разработки нового трудового кодекса. На сегодняшний день я вижу, что в плане правовой регламентации труда вынужденных переселенцев, беженцев, иностранных граждан у нас полнейший вакуум. И поэтому, наверное, все-таки трудовой кодекс должен стать тем актом, который должен регламентировать труд этих лиц.
Мне хотелось бы сказать об особенностях регламентации труда этих категорий граждан. На мой взгляд, можно выделить четыре категории таких граждан и лиц, которые претендуют на статус беженцев.
Первая категория — это граждане, которые претендуют на статус переселенцев, т.е. до получения такого статуса. Переселились люди, и ходатайствуют, чтобы им был предоставлен такой статус.
Вторая категория — это граждане, которые получили статус переселенца.
Третья категория — это лица, которые претендуют на получение статуса беженца.
Четвертая категория — это лица, которые получили статус беженца.
Если мы с вами посмотрим на те отношения, которые составляют предмет трудового права, то в принципе любое устройство на работу предполагает отношения по занятости и трудоустройству. Здесь передо мной выступал А.А. Кудрявцев, который как раз и говорил об особенностях регламентации труда беженцев и вынужденных переселенцев в плане их отношений со службой занятости. Насколько я понимаю, на сегодняшний день основная проблема состоит в том, что службы занятости не признают этих лиц безработными по той простой причине, что они не имеют постоянного места жительства. Говорят, что этот вопрос не регламентирован. Но у нас есть гражданское законодательство и статья в первой части ГК, которая действует с 1 января 1995 г., в которой четко дается понятие места жительства. “Это место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает”. Никаких других доказательств не требуется. Если мы говорим о признаках безработного, то все они перечислены ст. 3. Понятие безработного дает законодатель, а не служба занятости. “Трудоспособный гражданин (второй признак), зарегистрированный в службе занятости, с целью поиска подходящей работы, ищущий работу и готовый приступить к ней”. Четыре признака, а дальше уже говорится по тексту закона, что “гражданин признается безработным по месту жительства”.
Таким образом, определяется место, т.е. та служба занятости, которая признает гражданина безработным, но это не признак безработного. Поэтому мне кажется, что на сегодняшний день у нас есть все основания для того, чтобы эти категории лиц проводить через судебные решения, т.е. защищать их права в судебных органах. Получили официальный отказ в службе занятости — пожалуйста, в районный суд. Районный суд отказал — в кассационную инстанцию. И так надо идти до Верховного суда, потому что, я считаю, отказ в признании таких граждан безработными только на том основании, что у них нет постоянного места жительства, это незаконно. Человек преимущественно или постоянно проживает. Преимущество уже установлено, что он проживает там-то. Поэтому служба занятости, которая должна признавать гражданина безработным, определена местом его преимущественного пребывания. Здесь, по-моему [нет проблемы]. Если бы я разрешал это дело, а я цивилист и рассматривал без малого 10 лет цивильные дела и главным образом трудовые. Если бы на сегодняшний день возвратиться и попробовать разрешить этот спор (это не спор будет, а жалоба на действия службы занятости), то у меня серьезных каких-то сомнений по поводу вынесенного решения нет.
Я думаю, что в суде достаточно квалифицированных кадров, может быть, не вполне достаточно. [Кто-то говорит, что “почему-то они не попадаются”].
Я могу сказать, что здесь идет, наверное, не только конфликт С.А. Пашина и В.И. Миронова с руководством, здесь идет конфликт “отцов и детей”, во-первых, и, во-вторых, конфликт подхода к судебной системе. У старого руководства сложилась своя концепция подхода к судебной системе. Эта концепция заключается в том, что суд — это то место, где наказывают, где дают срок. Здесь, простите, не место тем, кто пытается кого-то защитить. С другой стороны, наверное, в нашем обществе суд должен стать органом и становится постепенно, я надеюсь, органом, который защищает права граждан. Любых граждан, будь то обвиняемый, потерпевший, истец, ответчик. Суд должен блюсти прежде всего закон, а не давать срок. Вот, наверное, в чем различие подходов. Поэтому идет такой спор, который заканчивается громкими судебными процессами.
Вернемся к нашим четырем категориям и посмотрим на особенности их статуса с точки зрения действующего трудового законодательства.
Прежде всего, граждане, претендующие на статус вынужденного переселенца. Вы сказали, что одни [отношения] — это отношения со службой занятости. Вторая группа отношений — это непосредственное поступление на работу. Может чисто теоретически (и практически это случается) этот гражданин найти работодателя, которые примет его на работу? Может. Если работодатель принимает этого гражданина на работу, чем он рискует, по действующему законодательству? У нас на сегодняшний день есть явное противоречие [говорят: штрафами]. У нас есть ст. 16 Кодекса законов о труде, которая говорит о том, что гражданин принимается на работу независимо от пола, расы и т.д. И дальше есть такая самая интересная фраза: “независимо от места жительства”. Поэтому работодатель по КЗоТ ничем не рискует, но, с другой стороны, в давние времена, когда действовала еще командно-административная система, как ее называют, в Кодекс об административных правонарушениях была внесена статья о том, что прием работника без прописки, без регистрации, для работодателя грозит наложением административного взыскания в виде штрафа.
Эта норма вступила в противоречие с нормой КЗоТа, причем здесь мы говорим о двух нормативных актах одной юридической силы. Кодекс об административных правонарушениях — это федеральный закон. КЗоТ РФ — тоже федеральный закон. В общей теории действует общее правило: из двух нормативных актов одинаковой юридической силы применяется тот из них, который принят последним. В данном случае ст. 16 КЗоТ была принята в новой редакции 25 сентября 1992 г., а не в 60-х гг., поэтому очевидно, что наложение административного взыскания вступает в противоречие со ст. 16 КЗоТ РФ. И даже если на работодателя кто-то рискнул наложить штраф, то он [работодатель] может в судебном порядке обжаловать наложение этого штрафа, и в соответствии со ст. 16 КЗоТ РФ действия по наложению такого штрафа должны признаваться незаконными. Для меня это тоже очевидно. Другое дело, что у нас действует, как мы говорим, де-юре и де-факто. Де-факто начальник паспортного отдела... Там начинаются совсем другие отношения, начинают преследовать... Насколько выдержит работодатель. Этот может каждый день штрафовать, а этот — каждый день в суд ходить. Но, по крайней мере, закон-то у нас есть? И на сегодняшний день он защищает этих лиц.
Теперь, что касается граждан-переселенцев, которые получили статус переселенца. Здесь тоже у меня не возникает сомнений, что они могут приниматься на работу. Ведь они же граждане, и место жительства не играет никакой роли.
Что касается лиц, которые претендуют на статус беженцев. Здесь при приеме на работу возникают трудности, поскольку это все-таки, как правило, иностранцы. И у нас существует специальная служба, которая дает разрешение на их привлечение к труду на территории РФ. Нас пытались убедить, что только через это разрешение можно привлекать к труду этих граждан. Согласен, таков закон. Суров закон, но — закон. Претендуешь ты на статус беженца, не получил ты этого статуса — ты иностранный гражданин и поэтому должен получить разрешение. Но если все-таки допущено к работе лицо, которое претендует на получение статуса беженца, какие правовые последствия это влечет для этого лица? В соответствии со ст. 18 КЗоТ РФ [он] как лицо фактически допущенное к работе работодателем становится полноправным работником. Другое дело, что в данном случае работодатель несет ответственность за незаконный прием лица на работу. Здесь есть, конечно, вопрос, но, как нам пояснял один из руководителей ФМС, никакой ответственности за это не наступает. Это тот случай, когда закон есть, а механизма его реализации не бывает, т.е. работодатель в данном случае, получается, мало чем рискует.
Что касается лиц, которые получили статус беженца. Здесь тем более вопросов при приеме на работу возникать не должно.
Дальше. Если все-таки гражданин или лицо, которое получило статус беженца, или лицо, которое претендует на статус беженца, все-таки устроились на работу... Здесь, в этой аудитории, поднимался вопрос о том, что все-таки у нас существует дискриминация. Каждую из категорий если взять, то эта категория оказывается в плане оплаты труда в более невыгодном положении, чем коренное население, которая работает, имеет соответствующие связи, жилье, т.е. адаптировалось к местным условиям. Ругают КЗоТ, говорят, что он плох. Посмотрите ст. 2. Там провозглашен принцип “равной оплаты за равный труд”. Он действует на сегодняшний день. Нас ругают и говорят: “Какая может быть равная оплата?! Какой может быть равный труд в условиях, когда существуют предприятия с различной формой собственности?”.
У нас был спор, он касался не совсем того предмета, о котором мы сейчас говорим. Но спор был, я считаю, во многом аналогичен. Там, помните, и через Верховный суд прошло наше дело? У нас различную заработную плату получали работники, которые были в штате предприятия, а те работники, которые были выведены за штат и подлежали сокращению, получали гораздо меньшую заработную плату и впоследствии это влекло уменьшение выходного пособия и всех других выплат, поскольку они в последние два-три месяца оказывались за штатом и получали меньшую заработную плату. Мы долго бились, президиум отменял, но в конце концов Верховный суд сказал, что действует принцип равной оплаты за равный труд.
В данном случае, если будут доказательства и будут обращения в судебные органы, то, я считаю, что это дело может служить аналогией для того, чтобы сказать, что если работник, который является гражданином, который получил статус вынужденного переселенца или претендует на него, или лицо, которое получило статус беженца или претендует на получение этого статуса, выполняет работу в той же специальности, квалификации, должности, с той же производительностью, что и работник коренной (так его назовем), и им заплатили разную зарплату, то это повод для того, чтобы защитить права беженцев, вынужденных переселенцев или лиц, которые претендуют на получение этого статуса. Другое дело, что мы все прекрасно понимаем, что как только гражданин или лицо, который претендует на получение статуса беженца или получил такой статус, придет в суд, то через месяц это лицо окажется за воротами предприятия. Это понятно. Работодатель никогда не будет терпеть строптивого работника.
Когда я писал кандидатскую диссертацию, мы провели социологическое исследование на различных предприятиях, практически на территории всей РФ. Мы взяли 1000 уволенных работников, которые были восстановлены по предписанию правовой инспекции труда. Прошло три месяца после их восстановления, и мы опять проверили: сколько из них работает. Работающих осталось двое. Выяснили, почему. Одного из них перевели в другое подразделение (он конфликтовал с руководителем цеха), а у другого его непосредственный руководитель умер. Остальные все были вновь уволены. Здесь неэффективность трудового законодательства. Она, конечно, скажется на судьбе работника. Здесь я вижу основную проблему в том, чтобы к процессу защиты этих четырех категорий лиц привлекать органы правовой инспекции труда.
Правовой инспектор труда — это то должностное лицо, которое обязано приходить к работодателю. Он есть в каждом субъекте РФ. Сейчас штат инспекции раздули. Когда мы работали в правовой инспекции труда, нас было трое, мы восстанавливали на работе в три раза больше лиц, чем все суды Калужской области. По России, когда мне пришлось исполнять обязанности главного трудового инспектора РФ, мы также восстанавливали (статистика такая) на работе в два раза больше лиц, чем все суды РФ. Сейчас ко мне обращаются трудовые инспектора. Я понимаю, что у них ни денег, ни желания работать, квалификация резко упала. Это все понятно. Но служба есть, и есть люди, и в городской инспекции по Москве, и в областной, у которых, что называется, болит душа за работу. В полярных ситуация они все-таки обязаны провести проверку, и уже не по жалобе работника, а просто проверку, которая выясняет такие-то нарушения. Вовсе не обязательно, чтобы работник писал заявление и жаловался на своего работодателя. Это самое главное сейчас в нашем процессе — реализация трудовых прав.
Что касается рабочего времени и времени отдыха, то, если эти работники поступили на работу, я надеюсь, что они находятся в равном положении. Каждый выполняет свою работу, у каждого есть рабочее время. Скажите, пожалуйста, вот вы работаете: у вас везде есть журнал учета рабочего времени? Нигде нет. Когда человека увольняют за прогулы и нет журнала рабочего времени... Любое действие между гражданином и юридическим лицом превращается в сделку. Сделка может быть односторонняя, многосторонняя, и вот эта сделка по уходу [с работы], по преждевременному уходу — тоже требует письменных доказательств, а не актов, которые у нас составляются задним числом. Если нет официального журнала, то и прогул доказывать очень сложно. Поэтому в плане рабочего времени и времени отдыха здесь особенностей я не вижу.
Охрана труда, дисциплина труда. Здесь тоже нормы КЗоТ де-юре находятся на очень высоком уровне, де-факто они у нас не исполняются по отношению ко всем категориям работников, в том числе к перечисленным нами лицам.
Главный вопрос — вопрос увольнения с работы этих лиц. Мы не случайно попытались задавать вопросы руководителю ФМС, имеются ли случаи увольнения лиц, которые поступили на работу без получения разрешения миграционной службы.
Ответ мы получили такой: это дело работодателя. Он должен уволить по собственному желанию, по сокращению штатов, но это его дело, а мы, мол, этого не касаемся.
Если посмотреть на эти категории граждан, которые мы с вами перечислили.
Граждане, которые претендуют на получение статуса вынужденного переселенца. Как они могут быть уволены? Могут они быть уволены в связи с тем, что у них нет места жительства? Ни в коей мере. Это уже и судебная практика признала; даже у нас в Москве есть постановление президиума и Верховного суда и Московского городского суда, которое говорит о том, что “увольнение в связи с тем, что у работника нет места жительства в населенном пункте, где он осуществляет свою трудовую функцию, не является основанием для расторжения трудового договора, контракта”. Лица, которые претендуют на статус вынужденного переселенца, пусть даже они не имеют постоянного места жительства, но все-таки приступили к работе, могут быть уволены только по основаниям, исчерпывающий перечень которых дан в КЗоТе.
Дальше. Лица, которые признаны вынужденными переселенцами. Здесь тоже общие нормы. И, по-моему, никаких у нас ограничений для этих лиц существовать не может.
Наиболее сложный вопрос, на мой взгляд, это вопрос прекращения трудовых отношений с лицами, которые претендуют на получение статуса беженца. Эта проблема возникает в связи с тем, что для них существуют особые правила приема на работу, которые связаны с получением разрешения миграционной службы. Когда такое разрешение не получено, то, по всей видимости, все-таки здесь появляются дополнительные основания для расторжения с этими лицами трудового договора-контракта. Таким основанием служит ч. 2 ст. 254, которая говорит, что “могут быть уволены лица, в отношении которых нарушен установленный законодательством порядок приема на работу”. Эта ч. 2 может быть применена, но вот ссылки на то, что у нас есть указ президента и разъяснения Минтруда о том, что надо производить ссылку на указ от 16 декабря 1993 г. Здесь, по-моему, несостоятельность. Все вы знаете, кто сталкивался с трудовым законодательством, что всегда в приказе, в трудовой книжке мы должны сделать ссылку на норму КЗоТ. В данном случае, как минимум делая ссылку на этот указ, мы должны еще указать ч. 2 ст. 254 КЗоТ, в противном случае увольнение будет без тех оснований, которые перечислены в КЗоТе.
Что касается беженцев, то здесь, по-моему, действуют общие правила, и никаких особенностей я не усматриваю.
Еще два слова. Я далек был до приглашения на эту конференцию от законодательства, которое регламентирует вопросы признания граждан вынужденными переселенцами и беженцами. Я ношу два закона, взял их в библиотеке и внимательно читал. Свежий взгляд подвигнул на такую мысль. Мы говорим, что “беженцем не может быть признано лицо, которое покидает свою страну по каким-то экономическим причинам”. Хорошо, мы не должны отвечать за экономические промахи иностранного государства, но такая формулировка у нас содержится и по отношению к вынужденным переселенцам. Простите, если человек по вине наших организаторов производства и всех вышестоящих уровней доведен до отчаянного положения и в силу экономических причин не может жить (а ведь пропитание — основное для человека, только потом, как у нас классики говорили, появляется потребность в жилье и т.д.), и он покидает свое место жительства и едет на другое место жительства, где он может добывать пропитание, но он вынужденным переселенцем признан быть не может? Здесь у нас повод для рассмотрения и совершенствования законодательства.
В заключение я хотел бы сказать, что эти встречи очень полезны. Когда говорят “специалист по трудовому законодательству”, читаешь (очень много приходится выступать и в основном сталкиваешься со специалистами по трудовому законодательству)... И знаете, какую специфику имеет отраслевое законодательство? Говорить, что “я знаю трудовое законодательство медицинских работников”... Так может сказать безответственный человек. У нас одних приказов, которые действуют, министра образования 11 томов, т.е. их все надо помнить.
Вы знаете законодательство о беженцах и вынужденных переселенцах и знаете его гораздо лучше, чем я и, может быть, многие из выступающих. Я думаю, что эти встречи должны заканчиваться конкретными предложениями нашему законодателю.
Я взял проект трудового кодекса, который будет вноситься правительством в Думу, и, только сидя здесь, я понял, что в данном кодексе нет раздела о регламентации труда беженцев, вынужденных переселенцев и иностранных граждан. Многие вопросы можно было бы снять уже на уровне этого кодекса.
Вот говорят “проект разработан и в трех чтениях принят — о правовом положении иностранных граждан в РФ”. Законов появляется превеликое множество, и вот этот закон, я уверен, будут внимательно читать только специалисты, даже до судей он не дойдет. Если кто-то сделает на него ссылку, только тогда судья возьмет его читать. Эта регламентация законами отдельных видов трудовых отношений проецируется на такую практику, которой не должно быть. Сейчас есть повод для того, чтобы свои предложения внести, тем более что трудовой кодекс идет в Госдуму. Надо просто сказать: “Граждане, коллеги законодатели, пожалуйста, учтите наши предложения о том, что масса вопросов, которые не получают правовой регламентации и не получат, если вы этого сейчас не сделаете”.
С. Ганнушкина. Спасибо за то, что вы сделали снова ясным то, что так усиленно запутывается бесконечным числом актов, каких-то дополнительных постановлений. То, что, подчас, бывает понятно просто из соображений здравого смысла. Это удивительная вещь, что высокая правовая наука оказывается гораздо проще, чем бесконечные инструкции и костыли, которые подставляются для своего удобства чиновниками.
Я сейчас могу сказать авантюрную вещь, но вы только подумайте: у нас есть особый порядок для установления фактов, имеющих юридическое значение. Факт регистрации имеет юридическое значение или не имеет? Не знаю. Самое главное у нас — факт места жительства. А место жительства надо устанавливать по месту постоянного или преимущественного пребывания. Никак это с регистрацией ГК не связывает, поэтому даже если один отказ последует, то можно идти двумя путями. Признание такого факта — место жительства в данном районе; а второй факт — идти на уровне постановления Конституционного суда.
Второе дело — добиться решения на основании постановления Конституционного суда. В конце концов, даже если районный суд откажет, то на уровне Верховного суда должен быть результат, и все-таки вопрос должен быть решен. Это интересно с точки зрения и теории и практики, потому что таких дел, поверьте мне, пока нет.
Вопрос. Первый вопрос. В ст. 34 КЗоТа есть целый перечень условий, имеющих преимущественное право при оставлении на работе при сокращении (изобретатели, одинокие и т.д.), и там последняя строка “и подвергшиеся переселению из мест” и потом “и т.д.”. Можно ли вынужденных переселенцев квалифицировать именно этими словами “подвергшихся и т.д.”?
Ответ. Я думаю, перечень не является исчерпывающим. Исчерпывающего перечня на сегодняшний день никто не давал. Трудовое законодательство, как вы знаете, имеет право на жизнь только в том случае, если имеет социальную направленность. Поэтому мы с вами можем толковать и расширительно, тем более там есть упоминание и о переселенцах, я думаю, что это должно касаться и вынужденных переселенцев.
Вопрос. Дело в том, что мы восстанавливали на работе вынужденного переселенца, ученого секретаря института, и судья считал так: “Да, вроде, нет этот не подходит...” Но все равно мы его восстановили.
Второй вопрос. У нас тут представитель фонда занятости обосновывал то, что не считаются безработными в связи с отсутствием регистрации по месту жительства. Применимо ли в данном случае постановление Конституционного суда о том, что факт регистрации по месту жительства не влечет для гражданина за собой ни прав, ни обязанностей?
Ответ. Конечно же, для этого и принималось это постановление Конституционного суда, и было сломано столько копий, как вы знаете, и столько было различных действий. Это постановление действует, и никто его не изменял, не отменял. Оно является источником права, и мы им должны руководствоваться.
Я думаю, что в фонде занятости все прекрасно понимают, но экономическая ситуация диктует фонду занятости другие действия. Целесообразность и законность — вечная проблема. А целесообразность толкает на то, чтобы заботиться о своем кармане, из которого судьи тоже получают зарплату.
С. Ганнушкина. При том количестве беженцев, которое у нас есть, мне подчас кажется, что это, скорее, вопрос принципа, чем вопрос денежный. К сожалению, это общая установка на то, чтобы не давать там, где можно не дать.
У нас разные отношения складываются и с фондом занятости, и с Минтрудом. Я считаю, что в Минтруде сейчас руководителем правового департамента работает великолепный специалист Сергей Алексеевич Панин. Иногда он мне звонит и говорит: “Ты опять дал консультацию в “Труде”, и это повлечет такую сумму, мы в четыре раза вынуждены будем расходы увеличить”. Я ему говорю: “Сергей Алексеевич, но по закону...”. “Да по закону!.. Ты что же делаешь?!” А вы помните отпуска без сохранения зарплаты по инициативе работодателей? Ведь консультацию мы дали в 1993 г., сформировали практику, а Минтруда дало разъяснение только 27 июня 1996 г. Все это время Сергей Алексеевич воевал с нашим решением и говорил: “Что же вы делаете?!” В конце концов все стало на свои места, специалисты нашли общий язык... Они дали разъяснение, что 2/3 надо платить.
С. Ганнушкина. В Российском гуманитарном университете 30% преподавателей в августе 1998 г. отправились по инициативе работодателя в неоплачиваемые отпуска. При этом все, кому это было предложено, кроме одного человека, написали заявления, что они просят по собственному желанию отправить их в этот отпуск. Ходили уговаривали начальство, чтобы им разрешили не писать такого заявления, но начальство никому не разрешило, и нашелся во всем институте только один человек, который просто этого заявления не написал и к начальству не ходил. Это была я. Я при этом собиралась еще с сентября уволиться, поскольку я уже не справляюсь с объемом работы и, видимо, это сделаю в феврале. Но в тот момент я хотела для примера показать молодым, что можно не идти гильотинироваться, когда тебе предлагают это делать, а хотя бы подождать, когда тебя поведут.
Вопрос. У нас в общежитиях проживают очень много переселенцев. В последнее время стало тенденцией увеличение платы за проживание в комнатах. Причем там ужасные условия, мы приезжали смотрели. У нас тянутся по два года суды с переменным успехом, но дело в последний раз заканчивается тем, что если они не будут платить очень высокую плату эту за проживание в общежитии, то вплоть до выселения. Мне бы хотелось получить ответ: имеют ли они право? Эти общежития ведомственные, принадлежат в основном общеобразовательным учреждениям: училищам, учебным комбинатам... Нам объясняют, что они не получают дотации и вынуждены поднимать плату за проживание. Но переселенцы либо получают очень маленькие зарплаты, либо они безработные, относятся к категории социально незащищенных, которые просто не в состоянии платить эту сумму. Она доходит до 240 руб. за одну маленькую комнату.
Ответ. К сожалению, я вас должен сразу огорчить: собственник жилья на сегодняшний день имеет неограниченное возможности, за исключением нашего жилого фонда. А у ведомственного фонда неограниченные возможности увеличивать плату за пользование этими жилыми помещениями. И более того, последние дела, которые мы рассматривали, иски о выселении граждан, которые имеют большую задолженность по оплате найма жилых услуг, из принадлежащих им квартир из государственного или муниципального фонда, удовлетворяются,. Это сейчас проблема, но на уровне действующего законодательства она решается не в пользу наших граждан.
Вопрос. У меня вопрос, касающийся признания причин увольнения по собственному желанию уважительными. КЗоТ не дает полного перечня, а существует перечень, который был довольно давно принят. В связи со всем знакомой ситуацией массовой невыплаты зарплаты, как, с вашей точки зрения, невыплата зарплаты, т.е. нарушение работодателем трудового законодательства, в котором еще никто не отменял сроки выплат, может ли быть трактована как уважительная причина? Там существует ряд различных льгот, скажем так, сохранение стажа и т.д. Возможно ли признание этой причины уважительной в связи с тем, что изменилась ситуация?
Ответ. Перечень этот действительно дан очень давно, если мне не изменяет память, Минтрудом в 1981 г. К сожалению, расширительно этот перечень не исчерпывающий, сказано, что другие уважительные причины могут быть. Я думаю, что никто из сегодняшних правоприменителей не рискнет вам дать консультацию о том, что к числу уважительных причин может быть отнесена длительная невыплата зарплаты. С другой стороны, но это, наверное, вы тоже знаете, публикации-то прошли у нас везде, и дело тоже прошло в Верховный суд. Это вопросы самозащиты работниками трудовых прав (прошло конкретное дело наше через Верховный суд). Когда работник отказывается от выполнения работы в связи с тем, что ему не выплачивают зарплату, в этот период выполняет другую оплачиваемую работу и возвращается к исполнению трудовых обязанностей только после того, когда погасят задолженность по зарплате. У нас проходили дела, увольняли таких работников, мы восстанавливали их на том основании, что трудовой договор — это все-таки двухсторонняя сделка, по которой работник обязан выполнить трудовую функцию по определенной специальности, квалификации или должности, а работодатель обязан оплатить эту работу. Если одна из сторон не выполняет обязанности, значит она освобождает другую сторону трудового договора-контракта [от необходимости] тоже выполнять свои обязанности по работе по определенной специальности... Это тоже сейчас вопрос, который нужно ввести в тот трудовой кодекс, который вносится сейчас в Госдуму. Пока не внесен этот вопрос, хотя судебная практика уже сформирована и Верховный суд высказался по этому вопросу.
Вопрос. В постановлении Верховного суда “О практике применения морального вреда” в п. 4 есть перечень критериев за моральный вред увольнений и т.д. При подаче нами в случае невыплаты зарплаты неуволившегося работника нам судьи отказывают на том основании, что это трудовые отношения и к моральному вреду это отношения не имеет. Хотя длительные невыплаты зарплаты несут моральный вред (у нас были случаи обмороков, это влияет на детей и т.д.).
И второй вопрос. По ст. 395. Возможно ли в случае невыплаты зарплаты предъявлять иск? Судьи оспаривают, говоря, что это трудовое право, а не материальное.
Ответ. Вопрос о моральном вреде возник после того, как 17 марта 1997 г. были внесены изменения в ст. 213 КЗоТ РФ. Она была дополнена ч. 5, где говорится о том, что в случае незаконного увольнения или перевода на другую работу работники имеют право на возмещение морального вреда. Сейчас на практике две позиции обсуждаются. Одна говорит, что коль скоро в КЗоТ указали только два этих случая, то теперь то постановление пленума [Верховного суда] “Некоторые вопросы возмещения морального вреда”, вроде бы, не должно действовать, поскольку два указанных случая только перечислены. С другой стороны, постановление никто не отменял и не изменял. Там четко сказано, что “моральный вред может взыскиваться и в тех случаях, когда работнику причинены физические или нравственные страдания, в т.ч. и в отношениях, связанных с трудовым законодательством”. Поэтому здесь в данном случае должны действовать общие нормы о привлечении к ответственности в виде выплат морального вреда и в данном случае есть ч. 3 ст. 10 ГПК, которая говорит о том, что если отношения не урегулированы, то мы можем руководствоваться, в том числе и по отношению к трудовым отношениям общими нормами гражданского законодательства. Здесь, я думаю, есть все основания для того, чтобы возмещать моральный вред. У нас в городском суде, когда мы были, позиция отсутствовала полностью. Судья решит на уровне района: взыскать моральный вред. У нас говорят: “Давайте оставим, потому что вопрос, вроде, не урегулирован”. Если “не взыскивать моральный вред”, то “понятие оценочное, давайте опять оставим”. Верховный суд пока не высказался, но я думаю, что выскажется в пользу работников.
Что касается применения ст. 395 ГК, Верховный суд высказался, но, каюсь и беру это на себя, так как начиналось все-таки с меня. Я первый писал, что ст. 395 к зарплате применять нельзя. По смыслу ст. 395 — это те денежные средства, которые побывали уже в руках у гражданина, это все-таки гражданские платежи, и я не находил оснований применять ст. 395. Хотя согласен, действующие механизмы учета инфляционных процессов практически отсутствуют, хотя есть у нас Закон об индексации денежных доходов и сбережений граждан в РФ (принят 24 октября 1991 г.) Механизм расписан. Можно применять этот закон? Говорят, что нельзя, поскольку правительство не утверждает индекс цен. Но каждый субъект РФ может это сделать, потому что у нас еще в КЗоТе 1918 г. говорили, что эти все индексы региональными органами в каждой местности разрабатывались свои, и это было очень правильно.
Не надо нам все валить на федерального законодателя. Ведь трудовое право у нас находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ. Все законы, которые улучшают положение граждан и лиц, которые претендуют на получение статуса вынужденного переселенца, будут еще урегулированы на уровне законодательств субъектов РФ, то это тоже будет законодательство, которое действует. Здесь должен быть какой-то баланс.
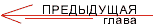 |
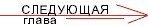 |